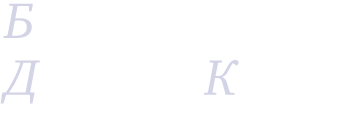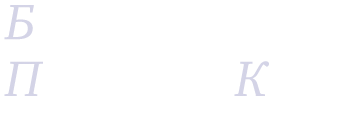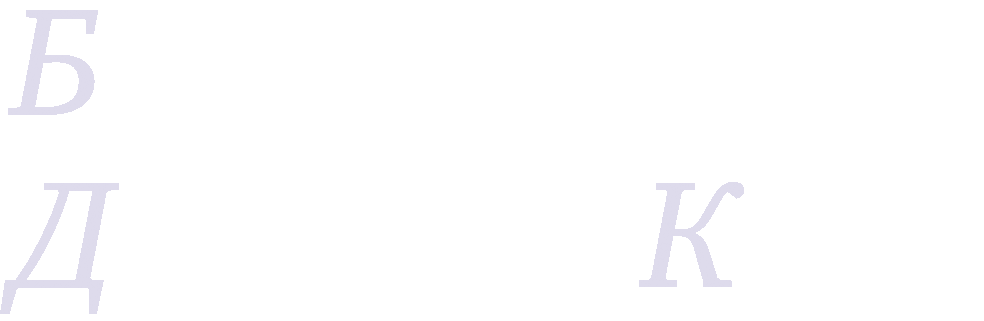Связи России со славянскими балканскими народами в XIX веке были разнообразны и многоплановы…
Это и тайная дипломатиями военное и культурное сотрудничество.
И, конечно, простые человеческие судьбы. Только не всегда судьбы эти были действительно простыми. Наш рассказ – о человеке, чья жизнь не раз менялась, как калейдоскоп, и завершающей картинкой в этой череде была Россия.
Боголюб Иванович Каталинич родился 2 декабря 1838 года. Славянин католического вероисповедания, он вырос на Военной Границе – в особой области, граничившей с Османской империей и имевшей военное устройство. Она охватывала часть Хорватии и Южной Венгрии (Славонии) и была населена преимущественно сербами и хорватами. Военная Граница занимала важное место в балансе вооружённых сил, которыми располагала Австрия.
Образование Каталинич получил в военном артиллерийском заведении (Технической школе) в Австрии и 12 января 1853 года начал службу в войсках Габсбургов в звании юнкера. Однако нашему герою не суждено было всю жизнь прослужить на одном месте. Он не раз переводился из полка в полк, участвовал в войне против Франции 1859 года, несколько лет служил в Италии в частях австрийской армии. В 1864-м Каталинич волонтёром отправился в австрийский корпус в Мексику, где шла борьба с французской интервенцией. В Мексике он прослужил около трёх лет, его повысили по службе: сначала дали чин подпоручика 2-го класса, затем – звание подпоручика 1-го класса. Каталинич постоянно участвовал в боевых действиях, отличился в 24 сражениях, был ранен в левое колено, за что австрийское правительство предоставило ему пенсию. В мексиканском походе он был награждён бронзовой медалью «За храбрость» от Максимилиана I Габсбурга, бывшего тогда императором Мексики, а также орденом «Гваделупо» и «серебряной медалью от императора французов». Занимая должность «адъютанта при начальнике штаба австрийского легиона», Каталинич приобрёл навыки весьма квалифицированного военного топографа.
По возвращении из Мексики Боголюб Каталинич провёл три месяца в разных частях на территории Австрии, а затем в судьбе его совершился резкий поворот. Из полного послужного списка офицера следует, что 2 февраля 1868 года он был уволен из австрийской армии, принял подданство княжества Сербии и поступил на службу в сербскую армию. Сербия тогда остро нуждалась в хорошо образованных и грамотных офицерах. Офицеры, перешедшие на сербскую службу, сразу же повышались в звании, причём засчитывались годы службы в австрийской армии. Правда, при переходе на сербскую службу офицеры обязаны были отказываться от пенсий, заслуженных на австрийской службе. На сербскую службу переходили не только сербы, но и хорваты, и при продвижении по службе не обращалось внимания на вероисповедание и национальность.
О службе Каталинича в Сербии известно только то, что он служил в Белграде при Военном министерстве. Вот что сам он сообщал: «В январе и феврале 186S года я совершал путешествие через Европейскую Турцию с г. Скалоном III в качестве сербского офицера, командированного г. Блазнавцом, тогда военным министром». Поручик Василий Скалон, который и раньше выполнял подобные задания Военного министерства в Петербурге, в 1868-м путешествовал и собирал сведения для «градусного измерения» по маршруту от Рущука до греческой границы. Работой русских офицеров, командированных для проведения топографических работ и сбора сведений о Балканах, руководил генерал-адъютант граф Николай Павлович Игнатьев, российский посол в Константинополе. Каталинич был командирован в помощь Скалону, так как «близко знаком был с производством съёмки и приёмами при тригонометрических измерениях», которые освоил ещё в Мексике. Русский поручик отмечал, что «для ускорения дела мы даже разделили между собою занятия в пути», что позволяло собрать больше сведений и одновременно «проверять и дополнять друг друга».
Через несколько месяцев Скалон вернулся в Санкт-Петербург. Каталинич же продолжал работу и по распоряжению сербского правительства составил маршрут «по Западной Болгарии», то есть от Видина до границ Греции. Под термином «маршрут» подразумевалось подробное географическое и топографическое описание местности с приложением карты. Видимо, это задание сербского правительства было согласовано с русским Военным министерством.
Помимо составления маршрута, будучи на сербской службе, Каталинич написал записку «О военно-политическом значении Военной Границы в Австрии» (подписана 30 декабря 1868 года). Любые сведения о Военной Границе были важны для российского правительства. В Австро-Венгрии в целом было значительно меньше консульств и дипломатических представительств, чем в той же Турции, а Военная Граница, будучи закрытой территорией, являлась практически белым пятном для российской разведки. Эта населённая славянами территория могла быть использована в качестве части российского плана противодействия возможной европейской коалиции, куда, вероятно, могла войти Австро-Венгрия.
Первый вариант труда Каталинича, написанный на немецком языке, был представлен графу Игнатьеву, вероятно, через посредство Скалона. Записка показалась дипломату интересной, поскольку соответствовала его собственным воззрениям. Игнатьев сотрудничал со славянскими комитетами и полагал, что для восстановления могущества России необходим союз со славянством. Записка Каталинича, содержавшая план совместного выступления австрийских славян и Сербии, пришлась весьма кстати: автор отмечал, что возможно общебалканское восстание.
23 июня 1869 года Каталинич поступил на русскую службу «прапорщиком с назначением в 146-й пехотный Царицынский полк с прикомандированием к Учебному пехотному баталиону для узнания русского языка и изучения воинских уставов». Обосновывая свой переход в российскую армию, Каталинич в письме военному министру Д. А. Милютину от 26 января 1871 года писал, что сделал это «по совету генерала Игнатьева»: «Враждебная политика Австрии относительно моего Отечества заставила меня покинуть эту страну… и поступить в ряды русской армии с тем, чтобы более познакомить Россию с моим Отечеством».
Каталинич прибыл в учебный батальон 29 августа 1869 года, однако уже с 1 сентября взял отпуск на четыре месяца и отправился в Полтаву к Василию Скалону. По поручению начальника Главного штаба генерал-адъютанта графа Ф. Л. Гейдена, Каталинич должен был сделать копию маршрутной карты части Балканского полуострова, а также подготовить «статистические сведения и записки о странах, прилегающих к рекам Дунаю, Саве и Драве», то есть те материалы, которые он вместе со Скалоном собирал в 1868-м. Скалону же граф Гейден поручил, помимо совместной работы над маршрутной картой и другими сведениями, ещё и перевести записку Каталинича «О военно-политическом значении Военной Границы в Австрии» на русский язык. Помимо перевода записка была дополнена сведениями о бюджетах Военной Границы в мирное и военное время.
В ноябре 1869-го, когда перевод был готов, Каталинич отправил дополненный вариант записки Игнатьеву. Дипломат дал высокую оценку этому труду, о чём свидетельствует письмо Скалона к Игнатьеву: «Письмо Ваше, в котором Вы извещали меня о получении записки о Границе, я прочёл с большим удовольствием и сообщил Каталиничу о Вашем лестном отзыве о его труде». 6 декабря Боголюб Каталинич представил свою записку Гейдену. Начальник Главного штаба так высоко оценил значимость этого труда, что уже 20 декабря отправил экземпляр Д. А. Милютину. В сопроводительной записке Гейдена сообщалось, что труд Каталинича «представляет некоторые интересные подробности о современном положении Границы и вообще всех славянских племен». Милютин, в свою очередь, в начале 1871 года предоставил копию записки для прочтения директору Азиатского департамента П. Н. Стремоухову.
В свой полк Каталинич прибыл после откомандирования из учебного батальона 15 февраля 1870 года. Однако служить там нашему герою долго не пришлось, так как маршрут по Западной Болгарии, составленный Каталиничем, был представлен «на Высочайшее воззрение вместе с работами Топографического Отдела, который вообще признал, что труд этот составлен с особенным знанием дела и весьма полезен как материал для новой 10-вёрстной карты Турции». Главный штаб ходатайствовал о производстве Каталинича из прапорщиков в подпоручики и о прикомандировании его к этому штабу, желая «воспользоваться его сведениями для картографических и статистических работ по Южнославянским землям». Положительная резолюция главы военного ведомства Милютина была получена на следующий день, и Каталинича прикомандировали к Главному штабу. Одновременно он стал вольнослушателем Николаевской академии Генерального штаба.
Вскоре после перевода в Главный штаб подпоручик Каталинич снова попросил об увольнении его в отпуск, на сей раз «в Австрию и Турцию». По возвращении он написал ещё одну записку: «О путешествии через южнославянские земли в месяцах июле и августе 1870 года», содержавшую в том числе и сведения о Военной Границе. Копию записки и описание путешествия через южнославянские земли он представил «на благоусмотрение» главы военного ведомства.
Милютин передал эти материалы Стремоухову, который особого восторга не обнаружил: «Хотя некоторые сведения, собранные г. Каталиничем, не лишены интереса, но в то же время некоторые замечания его о положении дел в Сербии и Княжествах не вполне справедливы и не представляют политического значения». Милютин же считал труды Каталинича достаточно важными, а усилия, потраченные нашим героем, – достойными поощрения. Об этом свидетельствуют гриф «весьма секретно» и запись, сделанная рукой военного министра на полях документа: «Хранить в числе секретных дел. Труды прап. Каталинича прошу иметь в виду при представлении к наградам».
Сам же Боголюб Каталинич считал, что два путешествия по южнославянским землям, им совершённые, «принесли русскому правительству как в военном, так и в политическом отношении немалую услугу». Попутно офицер сетовал на то, что граф Гейден обещал улучшить его материальное положение. Однако «до сих пор ничего ещё для меня не сделано, несмотря на то, что при переходе в Россию я лишился пенсии!» – возмущался он. То есть Каталинич терпел и ждал около девяти месяцев, живя в Петербурге на жалованье всего в 294 рубля в год. Отчаявшись и не надеясь уже чего-либо дождаться, он писал Милютину: «Обращаюсь к Вам как покровителю славян и прошу о переводе меня в гвардию или улучшить моё материальное положение со дня моего прикомандирования».
На следующий же день Милютин попросил предоставить ему «справку о служебном положении подпоручика Каталинича; занимает ли какую-либо должность, какое получает содержание, что имеется для него в виду в будущем?» Получив её, Милютин предложил испросить Каталиничу «какое-либо добавочное содержание». «Такой офицер может и впредь быть для нас очень полезен, если только привязать его к Русской службе выгодным для него положением». В результате жалованье Каталиничу было повышено до 720 рублей (плюс 114 рублей квартирных денег). Добился Каталинич и выплаты положенной ему по службе награды.
В 1872-м Боголюб Иванович был переведён в 147-й Самарский пехотный полк. И уже через несколько дней после перевода Каталинич подал рапорт на имя графа Гейдена об исходатайствовании «трёхмесячного заграничного отпуска, с сохранением полного содержания, с выдачею денежного пособия на излечение болезни». К рапорту прилагалось прошение на имя императора, в котором уточнялось, что Каталинич хотел бы отправиться «в Баню-Липике в Славонии», а также медицинское свидетельство. В последнем сообщалось, что Каталинич «страдает часто повторяющимся у него кровохарканием, биением сердца, кружением головы и слабостию зрения, вследствие приливов крови к означенным органам и происходящие от сидячей жизни», а также, «при малейшей перемене атмосферы, усиленными болями в левой ноге, от полученной огнестрельной раны пулею навылет в левую коленную чашку». Поэтому врач рекомендовал отправить офицера летом на юг.
Отпуск с полным содержанием Каталиничу предоставили, однако, поскольку в единовременном пособии ему было отказано, у него не было денег на проезд до места лечения. Поэтому 4 июня он обратился к Милютину с просьбой об исходатайствовании разрешения «в отмену заграничного отпуска, пользоваться Старорусскими минеральными водами, с прикомандированием… к золотушной команде* Гвардейского Корпуса». Разрешение было получено. Каталинич отбыл в отпуск 26 июня и вернулся в Петербург 24 августа, чтобы продолжить свою работу в качестве топографа отдела Главного штаба в Петербурге. В начале июня того же года наш герой получил звание поручика.
Уже через полгода Боголюб Каталинич попросил о новом повышении, ссылаясь на то, что при переходе на русскую службу он потерял чин и пенсию. На самом деле пенсию от австрийского правительства он потерял ещё при переходе в сербскую армию, однако здесь Каталинич снова, как и в письме Милютину от 26 января 1871 года, пропускал период своей службы в Сербии и делал акцент на потере преимуществ, которыми он обладал в Австрии. Впрочем, чина он на этот раз не получил.
Но не стоит думать, что круг интересов Каталинича ограничивался только топографией и военным делом. Так, он переписывался в Ватрославом Ягичем (1838-1923) – хорватским филологом-славистом, который в 1872-1874 годах был профессором Новороссийского университета в Одессе. Поддерживал он также связь и со Спиридоном Николаевичем Палаузовым, учёным-славистом болгарского происхождения. После смерти последнего в августе 1872-го Каталинич писал Ягичу о библиотеке покойного, содержавшей «старые греческие, сербско-византийские, итальянские,– и более того, арабские книги – редкости», а также сочинение самого Палаузова, касавшееся причин падения Византии и сербского царства. Каталинич отмечал, что «стоит и южнославянской академии купить их предложить», с тем чтобы «нашему народу сохранить». Впрочем, вдова Палаузова просила за библиотеку 8 000 рублей, что оказалось слишком дорого. (Библиотеку впоследствии купила Болгария.)
В марте 1874 года Каталинич обратился к Милютину с просьбой о предоставлении ему «четырёхмесячного заграничного отпуска в Австрию с сохранением получаемого мною содержания и выдачею единовременного денежного пособия». Он писал, что «одержим болезнями: геморроем, хроническим желудочным катаром и застарелым воспалением лёгких», на лечение потратил все деньги, однако здоровье его только ухудшалось. «Малейшее промедление здесь, в Петербурге, может стоить жизни…» Отпуск он получил, а по возвращении был произведён в штабс-капитаны.
Отпуск пошёл Каталиничу на пользу, однако пребывание в осеннем Петербурге грозило новым серьёзным ухудшением здоровья. Поэтому 10 сентября 1874 года офицер подал прошение графу Гейдену о прикомандировании «на время излечения здоровья к Штабу Кавказских войск», поскольку, с точки зрения врача, «пребывание в южном климате ему оказывается весьма необходимым». Разрешение было получено. Как офицер, состоящий при Военно-Топографическом отделе Кавказского военного округа на вакансии классного топографа, Каталинич занимался производством съёмок, межеванием и чертёжными работами и получал жалованье «из усиленного оклада»: с учётом квартирных общее содержание его составляло 998 рублей 79 копеек.
О последних месяцах жизни Боголюба Каталинича сведений не сохранилось. Согласно списку офицеров 147-го Самарского полка, в 1876 году он был «исключён умершим».
Итак, перед нами предстала недолгая, но очень насыщенная деятельность граничара на русской службе. Его карьера продвигалась с трудом. Личное дело изобилует просьбами о повышении жалованья и предоставлении отпусков по болезни. Он прожил всего 38 лет, здоровью его климат Петербурга был противопоказан. Его проект о военном вмешательстве России в судьбу австрийских славян не был реализован. Бюрократическая военная машина сохранила для нас свидетельства его битвы с чиновниками и жизненными обстоятельствами. Каталинич являл собой редкое сочетание: хорошо информированный боевой австрийский офицер, горячий славянский патриот, специалист высокого класса в области топографии и картографии. Он поистине был очень полезен для России…